«Университет без границ!» — истории выпускников ТГУ от первого лица
Каждый герой проекта рассказывает о своем профессиональном и личностном росте после окончания Томского государственного университета. Почему именно ТГУ стал стартовой площадкой, чему выпускников научил университет и какие воспоминания сохранились об Альма Матер. Все это — в историях «Университета без границ!»

Ярослав Пугай
| ТГУ '91 | |
| Факультет: | Физический |
На выбор профессии у меня, наверное, сильно повлияла атмосфера в школе. Я учился в физико-математической школе города Алма-Аты.
В Томский университет я поступил, по сути, случайно. Планировал пойти на физтех или в МГУ, НГУ. Но томичи принимали вступительные прямо в моем классе, за месяц до всех вступительных экзаменов в других вузах. В первый год учебы узнал, что в ТГУ есть кафедра квантовой теории поля, одна из немногих в стране. Кафедрой заведовал тогда Владислав Гавриилович Багров, о котором ходили разные красивые легенды и истории — хорошие, в духе науки, творчества и романтики поиска. Сам он был энергичным и грозно выглядящим профессором, как гранды из «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких. В общем, для нас, для первокурсников, недостижимый великий дядька — даже для разговору, только посмотреть на него на переменках во втором корпусе — уже здорово… Правда, в то время я вообще не знал, что такое квантовая теория поля, разве что читал какие-то популярные статьи про элементарные частицы и думал, что настоящая физика — это теория групп. Но, подозревал, что, наверное, это интересная наука, так как туда стремились многие ребята.

Поступить в группу
теоретиков было непросто. Многие ребята со второго курса почему-то
стремились на эту кафедру. Учиться, впрочем, было интересно. У нас в
группе теоретиков получить «4» на экзамене по специальности было не то, чтобы
ужасно, просто не помню таких случаев. О том, чтобы списывать на экзаменах, не
могло быть и речи. Впрочем, у физиков во всем мире это неприлично. Ценится
истина, и неважно, какая оценка.
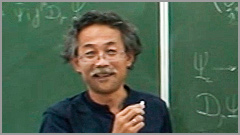
Не так легко было и найти научного руководителя. Моим был Сергей Кетов. Меня предупредили: чтобы просто пойти к нему на разговор, нужно было выучить толстый учебник по современной геометрии. После первого курса, как раз перед выбором научного руководителя, нас забрали в армию. Так я носил под гимнастеркой этот учебник — было тяжело его прятать от офицеров. Да и читать про всякие гомотопии и дифференциальные формы в армейских условиях — с лопатой-то в руке или джойстиком управления ракетой было совсем не просто. Зато Кетов потом все-таки поговорил со мной и дал следующий учебник для изучения. Он первым написал учебник по теории струн на русском языке, а я был одним из первых счастливых читателей — вписывал формулы в рукопись.
Ели картошку, макароны и мечтали заниматься наукой
Мне до сих пор удивительно, что мы с одногруппниками считали себя томичами, хоть и приехали из разных мест. Томск всех нас тогда сплотил. Мы видели, что кардинально отличаемся и от новосибирцев, и от москвичей. Много позже, в аспирантуре, в Черноголовке у нас была целая томская «тусовка», аспиранты с разных институтов РАН. В ней все доверяли друг другу только потому, что отучились в Томске.

На первом курсе я
параллельно посещал лекции второго. Благодарен за это университету и
физфаку. Поначалу такую свободу или, как сейчас говорят, индивидуальный учебный
план, я считал нормой. Только потом понял, что далеко не все вузы идут в таких
ситуациях навстречу студенту. Мне повезло — преподаватели согласились. В итоге
после армии я пошел сразу на третий курс. Вот эта открытость, желание
идти навстречу студенту, поддержать в любых разумных начинаниях — еще одна
черта ТГУ.
В учебе было важно то, что нас приучали мыслить свободно, ценить в науке только истину, и не бояться спорить по формулам и идеями с авторитетами — аспирантами, доцентами, профессорами или заведущими кафедр.
В некоторых университетах, в том числе и за рубежом, студент не всегда свободно может указывать преподавателю на его ошибки. Правда, речь про бакалавриат. В аспирантуре, особенно у теоретиков, как правило, истина важнее регалий.
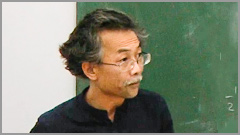
Когда вернулись из армии, в нашей комнате в общежитии на Южной жили семеро человек вместо четверых. Спать приходилось по очереди, а учиться мы могли только в читальном зале библиотеки. Зато было весело. Денег тогда не было, так что ели картошку, макароны, и при этом мечтали заниматься настоящей наукой — решать что-то неведомое человечеству. После такой школы движения к цели потом уже ничего не было страшно ни в Москве, ни за рубежом. Многие ребята подрабатывали, но совмещать работу с учебой мне было тяжело. Правда, позднее я стал получать Ленинскую стипендию. На нее я даже мог позволить себе, например, поездку в Москву на выходные. Чудили мы тогда хорошо.
Голосую за Принстон, Гарвард и ТГУ

Из Томска я уехал сразу в начале пятого курса в 1990 году. Поехал писать диплом в институт Ландау, а затем поступил туда в аспирантуру. Далее уезжал в аспирантуру в вуз США, потом вернулся. С семьей мы, после защиты диссертации побывали в Австралии, Японии. Там был постдоком, потом ассоциированным профессором. Вернулся в Москву. Подобные странствия по разным лабораториям — стандартная история для физика-теоретика.
Конечно, в работе за границей тогда было много плюсов: зарплата довольно высокая, хорошее научное финансирование: на конференции, приглашения для интересных людей, очень интенсивное живое общение. Но все же мы с семьей с самого начала собирались вернуться в Россию и, например, интенсивно учили детей русскому языку и математике по программе нашей школы. Причины этого решения, были, в основном, личные. Ничего плохого про работу в зарубежных лабораториях сказать не хочу.
Когда мне приcылают опросники по рейтингам вузов
Times Higher Education и Quacquarelli Symonds, то я голосую наравне с
Принстоном, Гарвардом и прочими грандами, за ТГУ. Я считаю, что
преподавание в бакалавриате и магистратуре на физфаке ТГУ ведется на очень
достойном уровне. Я общался со студентами и выпускниками разных вузов, и
считаю, что ребята томского физфака получают достойную подготовку.